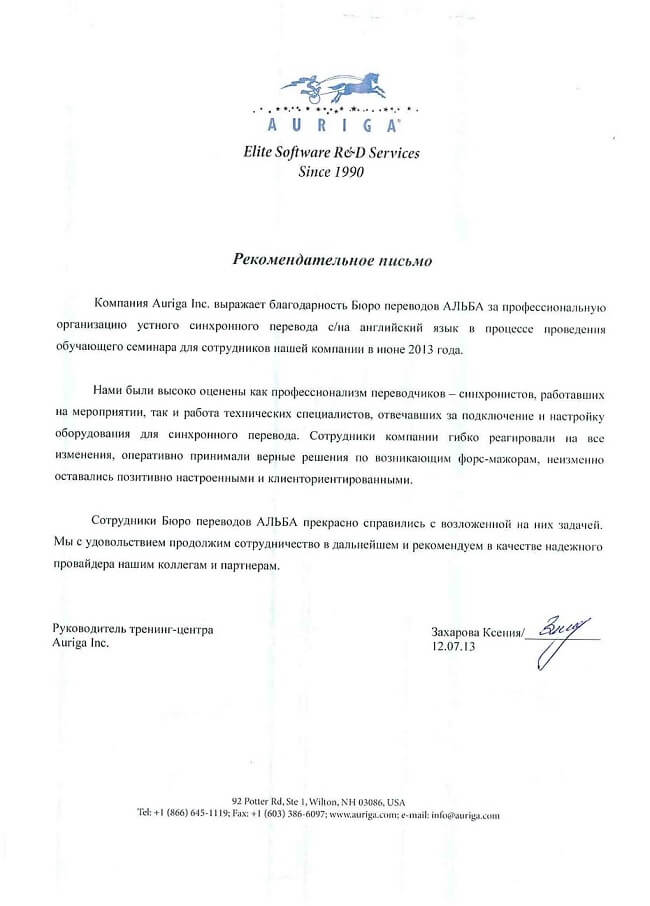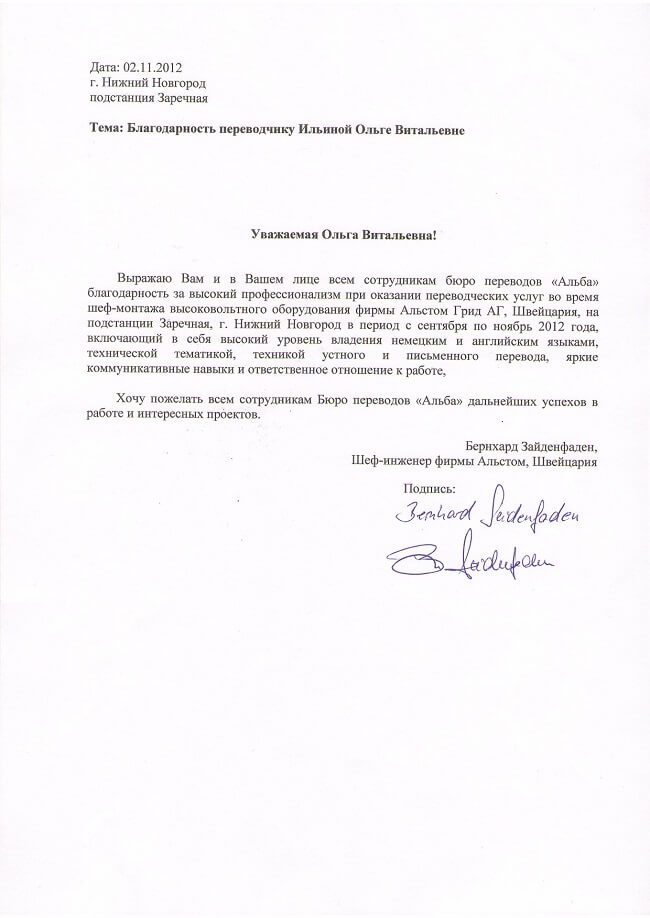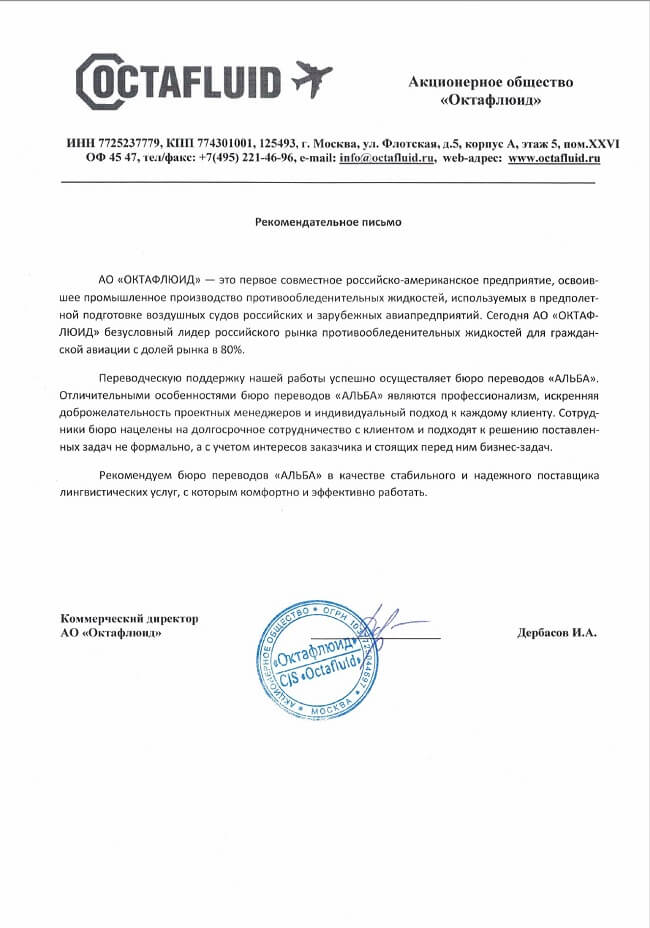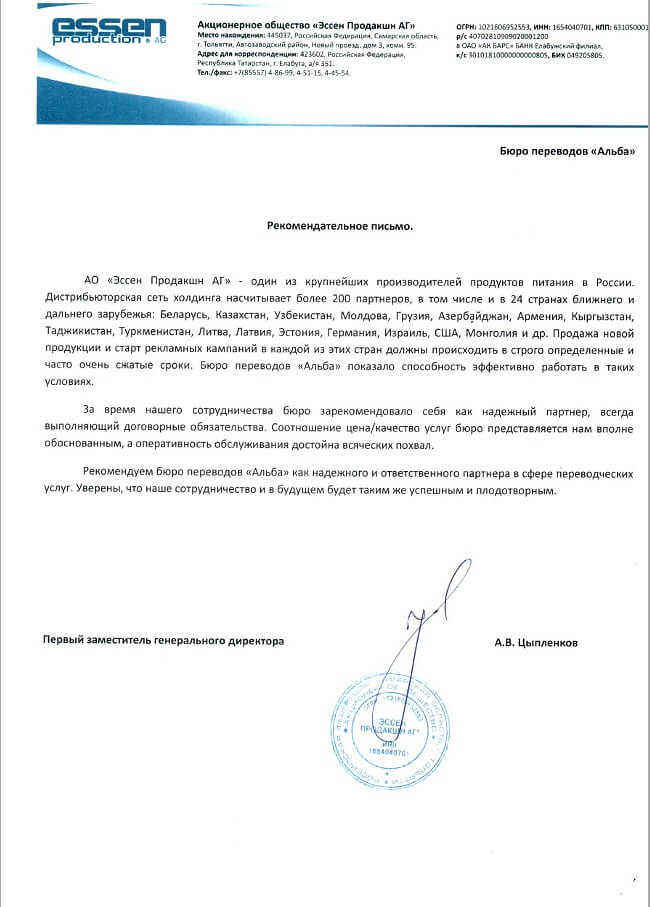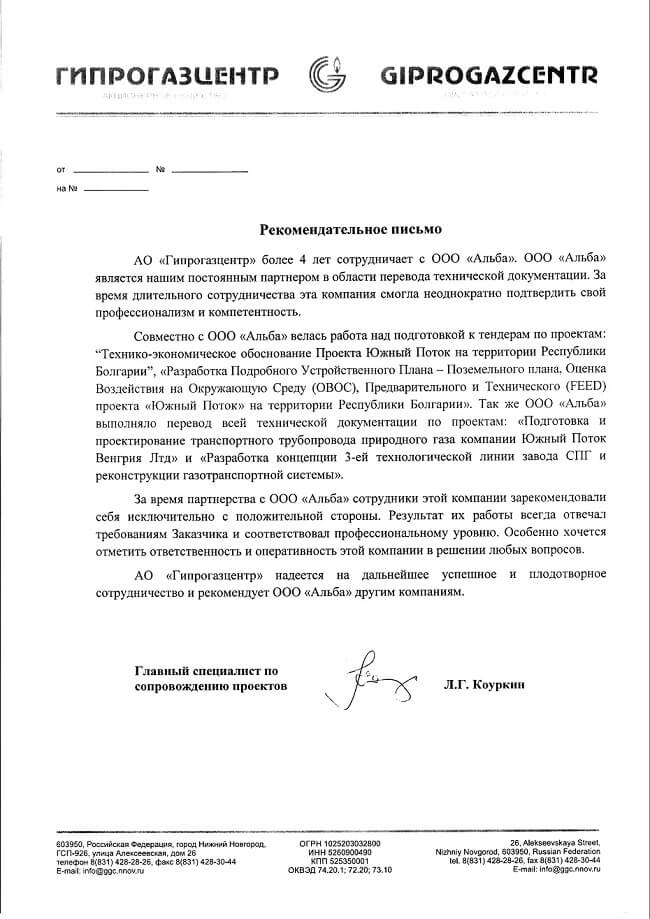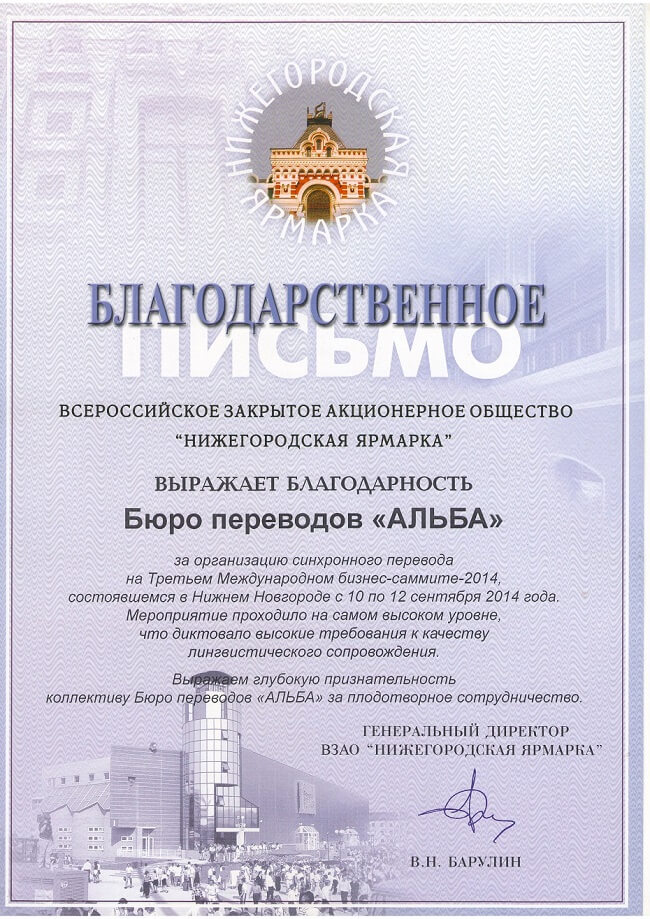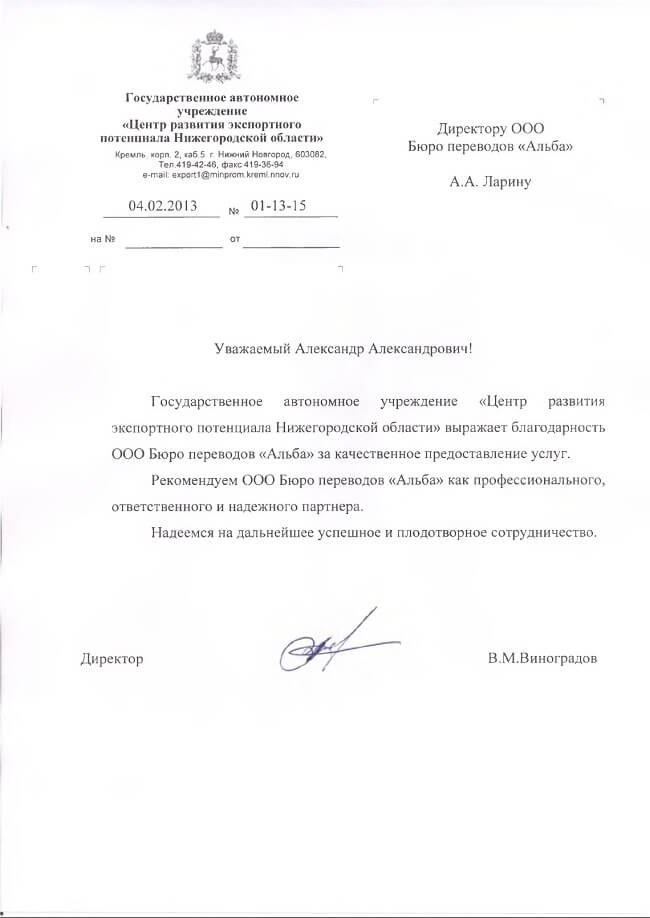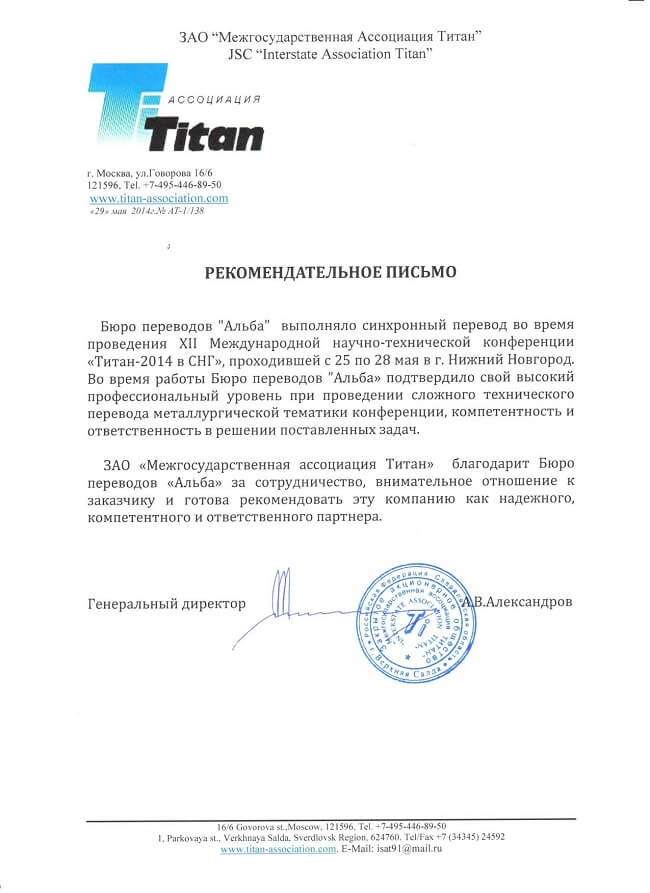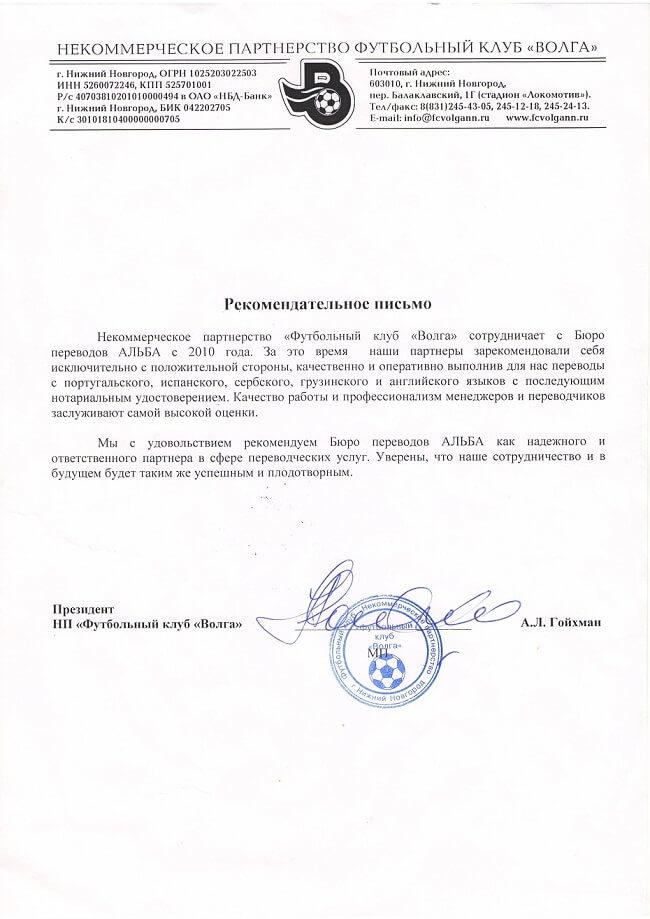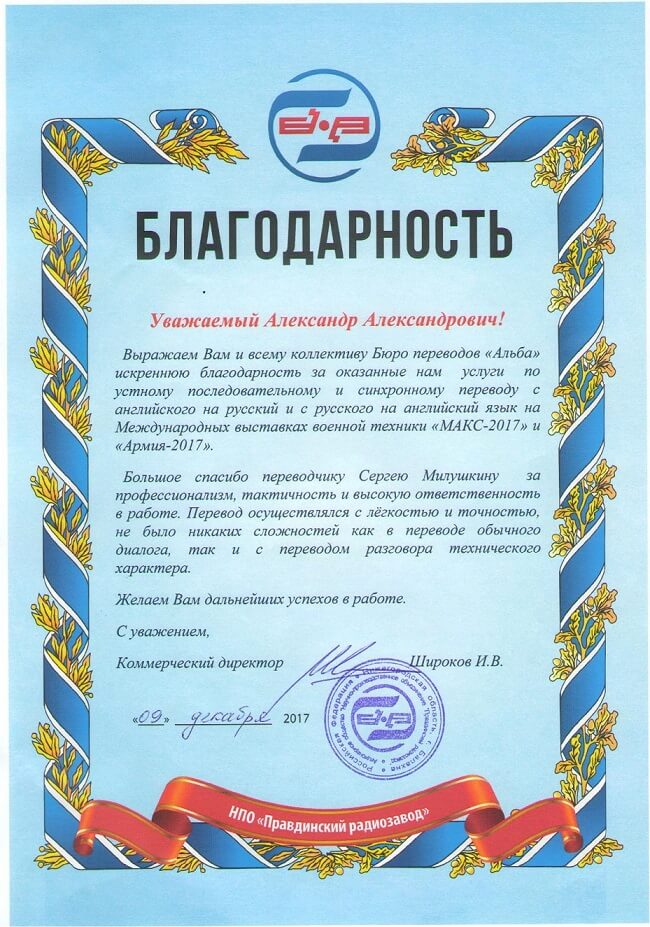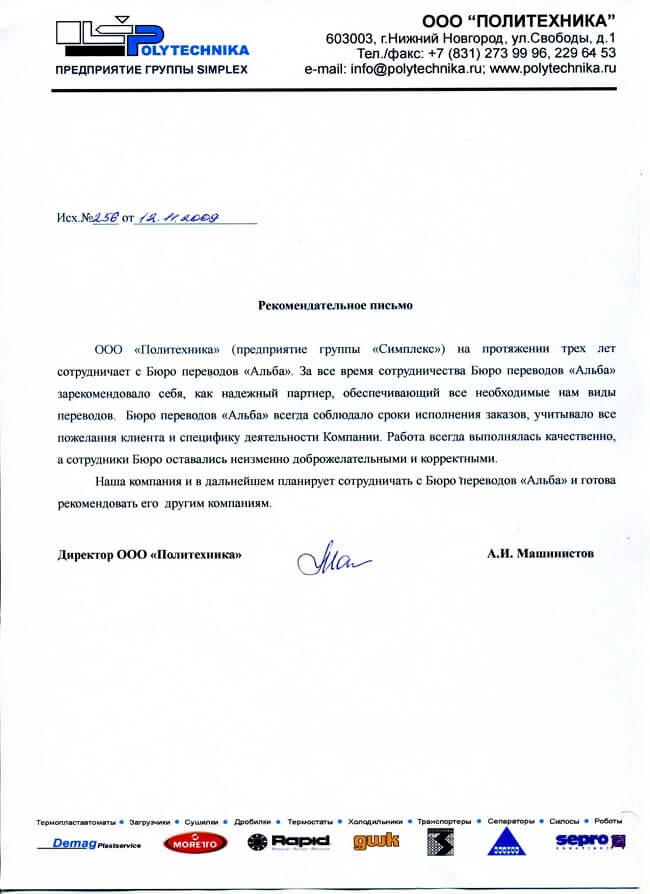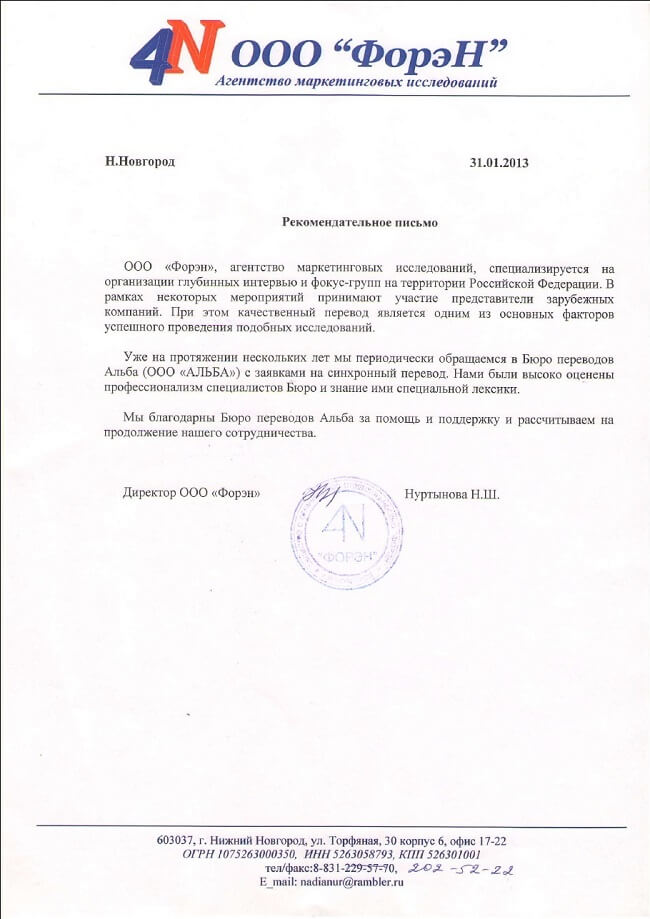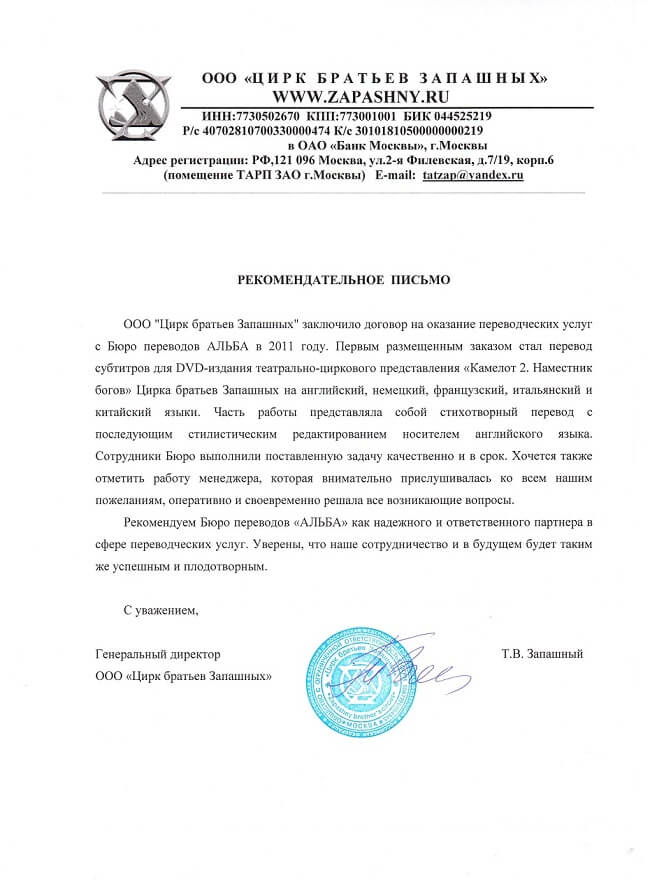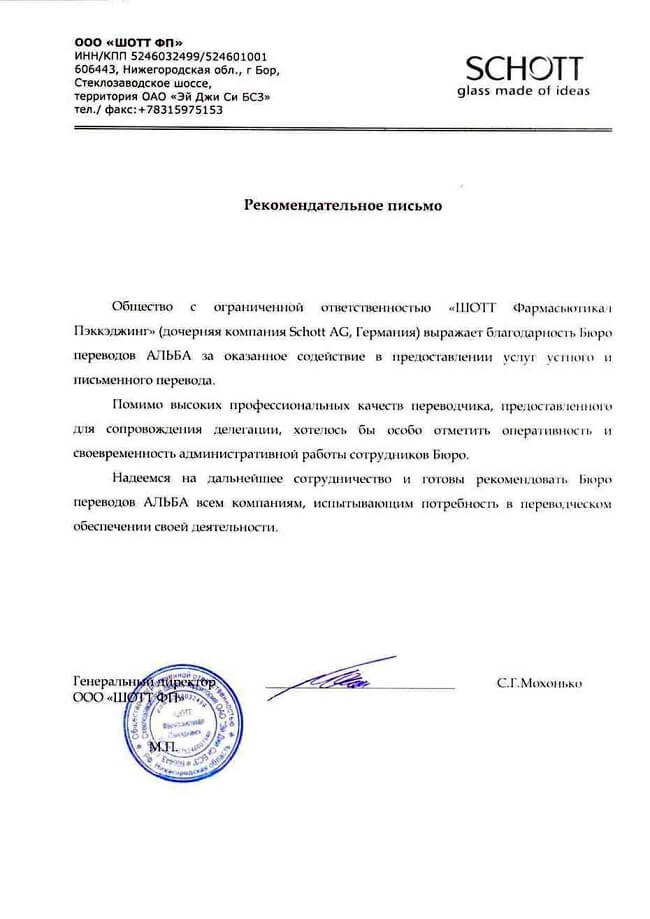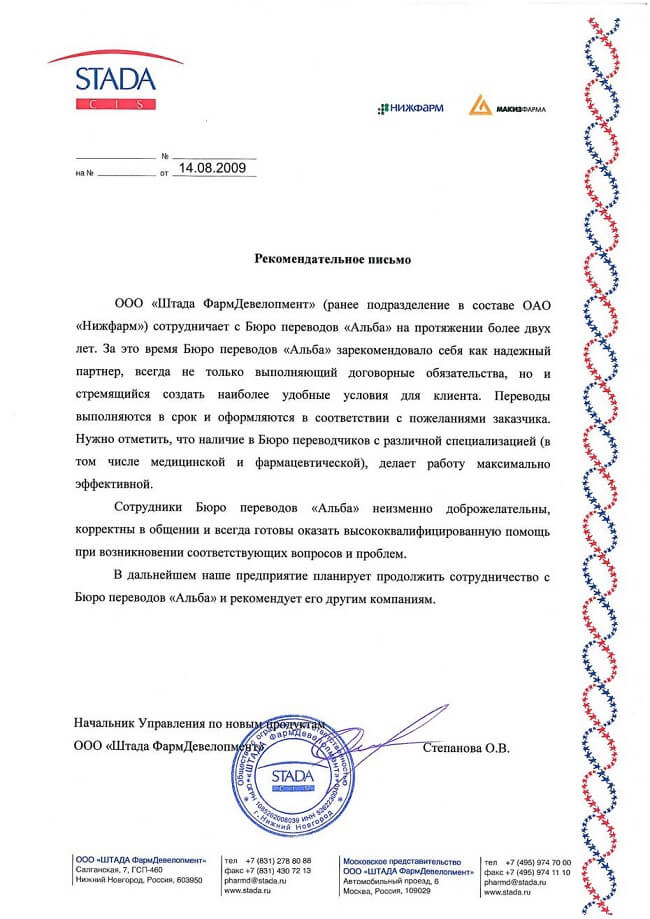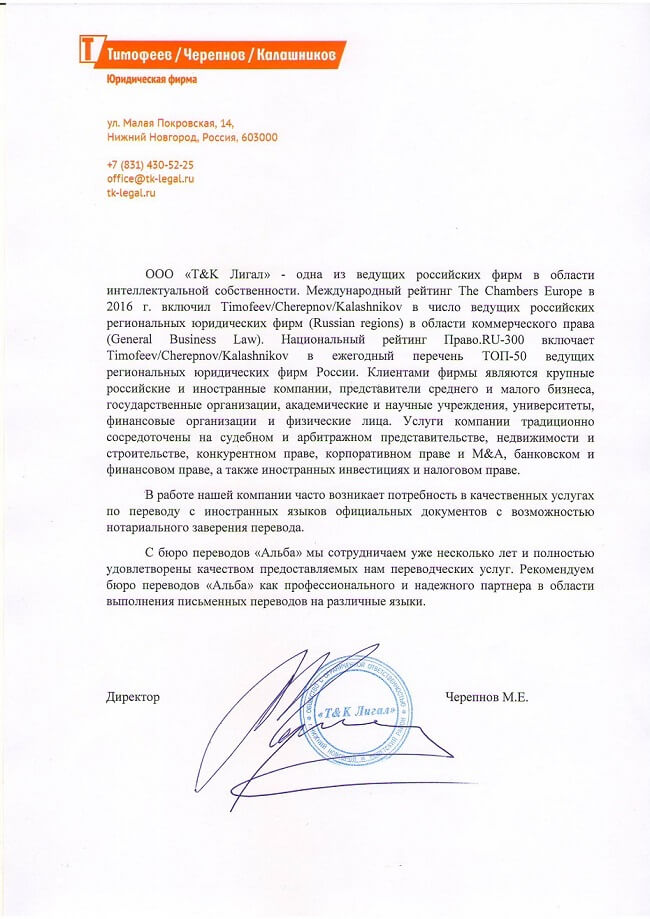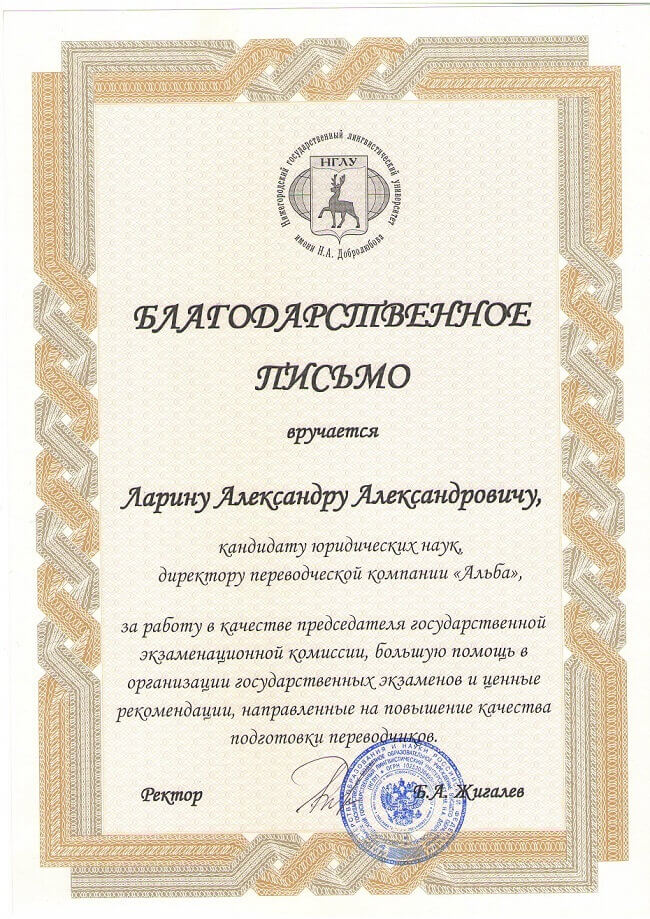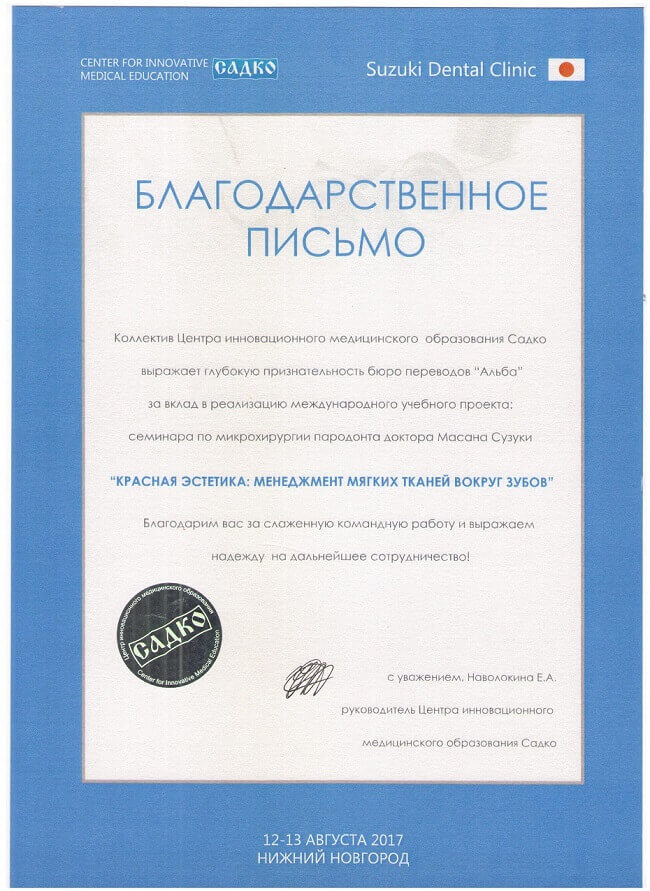Перевод одной аллитерации в «Докторе Живаго» Б. Л. Пастернака (на материале пяти переводов на четыре языка)
Дзюба Александр Владимирович — Переводчик, Ростов-на-Дону, Россия
Роман Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» представляет собой один из тех особых для мировой литературы случаев, когда зарубежные читатели познакомились с произведением раньше, чем отечественные. При этом многие переводы, особенно ранние, создавались в первую очередь на основе не оригинального текста, а итальянского перевода, выполненного П. Цветеремичем в 1957 г. Поэтому анализ иноязычных версий культового на Западе романа всегда представляет определенный интерес, ведь читатели, возможно, знакомятся не с прагматически и стилистически эквивалентным переложением книги на свой язык, а с неким пересказом, утратившим важные для оригинала элементы.
Перевод такого сложного романа, как «Доктор Живаго», на иностранный язык — объективно непростая задача. В тексте присутствует огромное количество диалектизмов, историзмов и устаревших слов, используются разные регистры речи, сравниваются пассажи на библейские темы на русском и церковнославянском языках, встречаются исключительно российские или советские реалии, приводятся стихотворные цитаты из русских поэтов, и т. д. Роман, хоть и написанный в прозе, изобилует различными поэтическими приемами, например внутренней рифмой, игрой слов и аллитерацией, под которой традиционно понимается «повторение одинаковых (или сходных) звуков или звукосочетаний» [1, с. 18]. Аллитерация, намеренно используемая автором в группе слов или интуитивно возникающая в процессе письма, может выполнять в тексте различные функции, выступая в качестве «средства для достижения экспрессивного символизма» [2, с. 280], а также являясь «орнаментальным приемом выделения и скрепления важнейших слов» [3, с. 20].
Для анализа в настоящем исследовании был выбран фрагмент романа «Доктор Живаго», в котором автор использует именно указанный выше стилистический прием. Помимо оригинального текста, будут рассмотрены его переводы на три близкородственных романских языка: испанский (Фернандо Гутьеррес, 1959 г.[1]; Марта Ребон, 2010 г.), португальский (Зоя Престес, 2002 г.) и галисийский (Александр Дзюба, 2024 г.), а также на английский язык (Лариса Волохонская, Ричард Пивер, 2010 г.). Следует заранее отметить, что автор статьи не ставит перед собой цель подвергнуть критике решения других переводчиков или поставить свой перевод выше других. Главное — проанализировать на конкретных примерах, была ли замечена определенная аллитерация переводчиком или переводчицей и каким образом она передана в переводящем языке (далее — ПЯ).
Необходимо при этом понимать, что достаточно большой объем романа предполагает, что какие-то главы, отрывки, предложения, выражения и т. д. могут быть переведены лучше или хуже тем или иным переводчиком. Однако, к сожалению, как верно заметил Ю. Найда, переводчик «подвергается суровой критике, когда совершает ошибки, и мало ценится, когда выполняет свою работу правильно, потому что существует представление о том, что любой человек, владеющим двумя языками, способен переводить так же хорошо, как и переводчик, много работавший над текстом» [4, с. 157]. Объективная и аргументированная критика переводов, безусловно, необходима, хотя зачастую у нас отсутствуют достоверные сведения о том, в каких, например, условиях работали переводчики, сколько им было выделено на работу времени и насколько их перевод был «облагорожен» редакторскими правками[2].
Приведем оригинальный текст Б. Л. Пастернака (22-я глава части седьмой «В дороге»), в котором полужирным шрифтом выделены примеры повторения одинаковых звуков:
Веяло чем-то новым, чего не было прежде. Чем-то волшебным, чем-то весенним, черняво-белым, редким, неплотным, таким, как налет снежной бури в мае, когда мокрые, тающие хлопья, упав на землю, не убеляют ее, а делают еще чернее. Чем-то прозрачным, черняво-белым, пахучим. «Черемуха!» — угадал Юрий Андреевич во сне [5, с. 187].
Б. Л. Пастернак в первую очередь поэт, и не кажется удивительным, что в данном случае автор сознательно использует аллитерацию, чтобы передать пограничное состояние Юрия Живаго, находящегося между сном и бодрствованием. Любому читателю знакомо это ощущение: главный герой в полусне чувствует знакомый запах, но не может понять, что это, и само искомое слово как бы вертится в голове. Как отмечает В. Ю. Балахнина, «среди разнообразных пастернаковских образов наибольший интерес представляют символы суггестивные, специфика которых определяется развеществлением слова и образа. Слово утрачивает свою определенность, предметность, содержание его становится всеобъемлющим и расплывчатым» [6, с. 88]. В данном же случае можно утверждать, что, наоборот, расплывчатый образ при помощи аллитерации постепенно превращается в определенное слово.
Автор добивается необходимого эффекта, используя экспрессивный фонетический прием, в котором очевидно повторение звукосочетаний [че], [чер] и [чем], и, возможно, именно поэтому в тексте используется определение «черняво-белый», а не «черно-белый», так как последнее нарушило бы аллитерационный ряд, равномерно распределенный по нескольким предложениям и не бросающийся сразу же в глаза. Так, Л. С. Бархударов, приводя в качестве примера аллитерацию из «Евгения Онегина», говорит о том, что ее эффект для читателя скорее подсознательный и он может даже не обратить внимание на данный прием [7, с. 138]. Однако надеемся, что переводчикам, которых никак нельзя назвать простыми читателями, заметить его все же удалось.
Перед тем как, собственно, проанализировать перевод аллитерации, рассмотрим передачу в переводных текстах слова «черемуха». Образы природы, в частности деревья, занимают важное место в тексте романа (достаточно вспомнить знаменитую «рябину в сахаре»), и, на наш взгляд, оригинальное дерево должно быть сохранено в переводе текста, даже если оно не произрастает на территории носителей ПЯ: во-первых, Б. Л. Пастернак не зря использует образ «снежной бури в мае», ведь белые цветы черемухи часто сравниваются со снегом, во-вторых, черемуха — важное для русской культуры дерево, которому посвящено несметное количество песен и стихотворений, она вызывает у россиян определенные чувства и ассоциации. Спектр эмоций, которые возникают в душе благодаря цветению и аромату черемухи, прекрасно описывает Л. С. Шашкова: «Здесь и радость от наступившей, но все-таки еще ранней весны, и печаль от скоротечности этого чудесного времени года, и светлая надежда на будущее, и грусть от безвозвратно ушедшего» [8][3].
Обычно международное латинское наименование растения (Prunus padus) легко помогает определить эквивалент в любом языке: достаточно свериться с соответствующим справочником или толковым словарем. Тем интереснее, что в большей части рассматриваемых переводов черемуха была по какой-то причине заменена другим деревом: оба испанских варианта дают cerezo silvestre («черешня», Prunus avium), а португальский — cerejeira («вишня», название для всего подрода растений[4]); черемуха же в этих языках называется соответственно, cerezo de racimos (cerezo aliso) и azereiro-dos-danados (pado, pado-do-alvão). Вероятно, на выбор слова в этих переводах повлияло английское bird cherry (букв. «птичья вишня»), что дословно соответствует латинскому Prunus avium. Однако bird cherry означает именно «черемуху», а не «черешню», так же как и галисийское pau de san Gregorio. Таким образом, только в английском и галисийском переводах сохранилась оригинальная «черемуха», а не какое-либо другое дерево.
Теперь рассмотрим соответствующие варианты переводов указанного фрагмента на четыре языка. Точность в плане содержания у всех рассматриваемых переводных текстов высока, поэтому мы не делаем обратный перевод для читателей, не владеющих ПЯ: тексты практически совпадают между собой и с оригиналом (если не учитывать название дерева):
Переводы отрывка из романа Б. Л. Пастернака
|
Язык, автор перевода |
Текст перевода |
|
Пер. на испанский Ф. Гутьерреса |
Alentaba algo nuevo que no existía antes, algo mágico, primaveral, de un color blanquinegro aéreo y ligero, como un ventarrón de tempestad de nieve en mayo, cuando los copos húmedos y sueltos, al caer, no blanquean, sino que hacen más oscura la tierra. Algo diáfano, blanco, negro, perfumado. —«¡Los cerezos silvestres!», pensó Yuri Andriéevich en sueños [9] |
|
Пер. на испанский М. Ребон |
Flotaba el perfume de algo nuevo que antes no estaba presente. Algo mágico, primaveral, blanco y negro, raro, incorpóreo, como una brusca tempestad de nieve en pleno mes de mayo, cuando los copos húmedos, casi derretidos, al caer a tierra, no la blanquean, sino que la vuelven todavía más negra. Algo diáfano, blanquinegro, aromático. «¡Cerezos silvestres!», intuyó Yuri Andréyevich en sueños [10] |
|
Пер. на португальский З. Престес |
Soprava com um perfume novo que não se sentia antes. Algo encantador, algo primaveril, negro e branco, raro, leve, assim como neve de maio, molhada, caindo em flocos que derretem ao atingir a terra e que não a deixam branca, mas sim mais negra. Algo transparente, negro e branco, cheiroso. "Cerejeira!", adivinhou Iúri Andreevitch no sonho [11] |
|
Пер. на английский Р. Пивера и Л. Волохонской |
There was a breath of something new that had not been there earlier. Something magical, something springlike, black-and-white, flimsy, loose, like the coming of a snowstorm in May, when the wet, melting flakes on the ground make it not white but blacker still. Something transparent, black-and-white, strong scented. “Bird cherry!” Yuri Andreevich guessed in his sleep [12] |
|
Пер. на галисийский А. Дзюбы |
Cheiraba a algo novo, algo que antes non había. Parecía algo máxico, parecía algo primaveral, algo negro, branco e negro, raro, non espeso, coma un ataque de zalapastrada en maio, cando os flocos mollados que se derreten voando, caen no chan, e non o branquean, senón que o fan aínda máis negro. Parecía algo transparente, branco e negro, recendente. “Pau de San Gregorio!” — atinou Iuri Andréievich soñando [13] |
Как можно заметить, аллитерация в той или иной степени проявляется лишь в двух из рассматриваемых нами переводов: в английской и галисийской версиях, и в обоих случаях повторяемые звуки совпадают с началом слова, означающего черемуху. Разница в конкретных звуках в разных языках не принципиальна, несмотря на то что «эффект, который производят определенные фонемы в одном языке, не всегда эквивалентен эффекту, которые возникают в другом» [14, с. 183]: в данном случае, на наш взгляд, главное, чтобы используемые слова или слоги в фонетическом плане ассоциативно вызывали мысль о названии дерева в конкретном языке.
Действия и решения переводчика представляется более логичным объяснить на примере нашего перевода на галисийский язык: отталкиваясь от названия дерева, мы добавили в текст слово parecía — «казалось, напоминало», использование которого не противоречит оригинальному тексту, но позволяет обратить внимание читателя на аллитерацию, хотя в любом случае не может быть определенной уверенности в том, что читатель заметит прием, ведь, к сожалению, «никакое сообщение никогда не понимается в совершенстве и полностью» [15, c. 51]. Помимо повторения слога pa-, можно также заметить несколько раз встречающееся звукосочетание gr, которое ассоциативно должно отсылать к имени святого Георгия, ведь буквально название черемухи на галисийском означает «палка св. Григория». Можно назвать своеобразным «переводческим везением» тот факт, что в названии дерева и в словах, эквивалентных оригинальным, совпадает достаточное количество звуков для того, чтобы можно было сказать, что авторская аллитерация сохранена. Но что делать, если такого «везения» нет?
Попробуем кратко ответить на данный вопрос и предложить наиболее простой способ решения проблемы для португальского и испанского переводов. В первую очередь, необходимо все-таки сохранить оригинальное дерево (черемуху), выбрав, например, для испанского текста cerezo aliso и pado для португальского. Самым простым решением для обоих языков вновь является добавление глагола parecer («казаться»), но по разным причинам: в испанском появится повторение межзубного звука [θ], а в португальском очевидным образом возникнет многократное повторение начального сочетания [pa], которого будет вполне достаточно с учетом уже имеющихся лексем, например transparente. В испанский текст в то же время можно добавить слова или выражения, которые смогли бы продемонстрировать постепенное возникновение образа черемухи в сознании главного героя. Лучше всего это сделать при помощи повторения начальных звуков лексемы cerezo, к примеру внедряя в текст слова вроде cerca («близко»), cercano («близкий»), con certeza («точно») и т. д., которые не противоречили бы оригинальному тексту и не меняли его смысл, но дополняли бы экспрессивный прием автора. По этой причине мы не можем вставить в перевод такие слова, как cerveza («пиво») или cerdo («свинья»), несмотря на подходящее звучание: их употребление сложно было бы оправдать в имеющемся контексте. В крайнем случае можно добавить или заменить имеющиеся лексемы словами, в которых присутствует межзубный звук [θ]: blanquecino («беловатый») вместо blanco («белый»), negruzco («черноватый») вместо negro («черный»), hechicero («колдовской, волшебный») вместо mágico («волшебный, магический»). Взяв за основу текст М. Ребон, продемонстрируем, как рассматриваемый нами фрагмент мог выглядеть с учетом сохранения авторской аллитерации:
Flotaba el perfume de algo nuevo que antes no estaba presente. Parecía que estaba muy cerca («очень близко»), que era algo hechicero («волшебный, колдовской»), primaveral, blanco y negruzco («черноватый») […]. Parecía algo diáfano, blanquinegro, aromático, cercano («близкий»). «¡Cerezo aliso!».
Можно найти и более удачные варианты для передачи на другие языки аллитерации из данного фрагмента романа, но главное, что мы наглядно продемонстрировали самый простой механизм для эквивалентной передачи важного стилистического приема. Как показал анализ перевода рассматриваемого нами отрывка на различные языки, сохранение аллитерации вполне возможно, но не во всех текстах, к сожалению, прием был передан ввиду его малозаметности или же по какой-либо другой причине. В любом случае, какими бы ни были стилистические, лексические или синтаксические особенности оригинала, переводчик должен стараться их замечать и пытаться сохранить их для читателя на другом языке, чтобы тот мог ознакомиться с текстом, адекватно передающим дух и смысл подлинника.
Библиографический список
1. Нелюбин Л. Л. Толковый переводоведческий словарь. М.: Флинта: Наука, 2016. 320 с.
2. García Yebra V. Teoría y práctica de la traducción. T. 1. Madrid: Gredos, 1984. 408 p.
3. Литературный энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1987. 752 с.
4. Nida E. Sobre la traducción. Madrid: Cátedra, 2012. 481 p.
5. Пастернак Б. Л. Доктор Живаго. Сухуми: Алашара, 1989.
6. Балахнина В. Ю. Семантика и трансформации природных символов в романе Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» // Вопросы культурологии. 2009. № 4. С. 87–90.
7. Бархударов Л. С. Язык и перевод: вопросы общей и частной теории перевода. М.: Издательство ЛКИ, 2014. 240 с.
8. Шашкова Л. С. Черемуха: радость и немного грусти // Цветоводство. 2014. № 2.
9. Pasternak B. El doctor Jivago. Madrid: Noguer, 1971.
10. Pasternak B. El doctor Zhivago. Barcelona: Galaxia Gutemberg, 2020.
11. Pasternak B. Doutor Jivago. Rio de Janeiro: Record, 2002.
12. Pasternak B. Doctor Zhivago. N. Y.: Pantheon, 2010.
13. Pasternak B. Doutor Zhivago. Vigo: Galaxia, 2024.
14. Bueno García A. Publicidad y traducción. Vertere. Monográficos de la revista Hermenus. 2020. № 2. 239 p.
15. Львовская З. Д. Современные проблемы перевода / Пер с исп. М.: Издательство ЛКИ, 2014. 224 с.
[1] Здесь и далее в скобках указывается имя переводчика и год первой публикации.
[2] Интересно, что взгляд на критику переводов у автора статьи за годы работы заметно изменился: см. Дзюба А. В. К вопросу об адекватности перевода «Повелителя мух» У. Голдинга на русский язык // Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода: Международный сборник научных статей. Вып. 5. Н. Новгород: Бюро переводов «Альба», 2015. С. 70–76.
[3] Автор хотел бы выразить благодарность журналу «Цветоводство» и лично Л. С. Шашковой за помощь в получении электронной версии статьи, а также издательству Galaxia Gutemberg за предоставление необходимой цитаты из нового перевода «Доктора Живаго» на испанский.
[4] Возможно, имеется в виду cerejeira brava (черешня).